Айриян Радик. Радость побед и горькая участь победителя, ч.1
- 19:50 31.07.2025
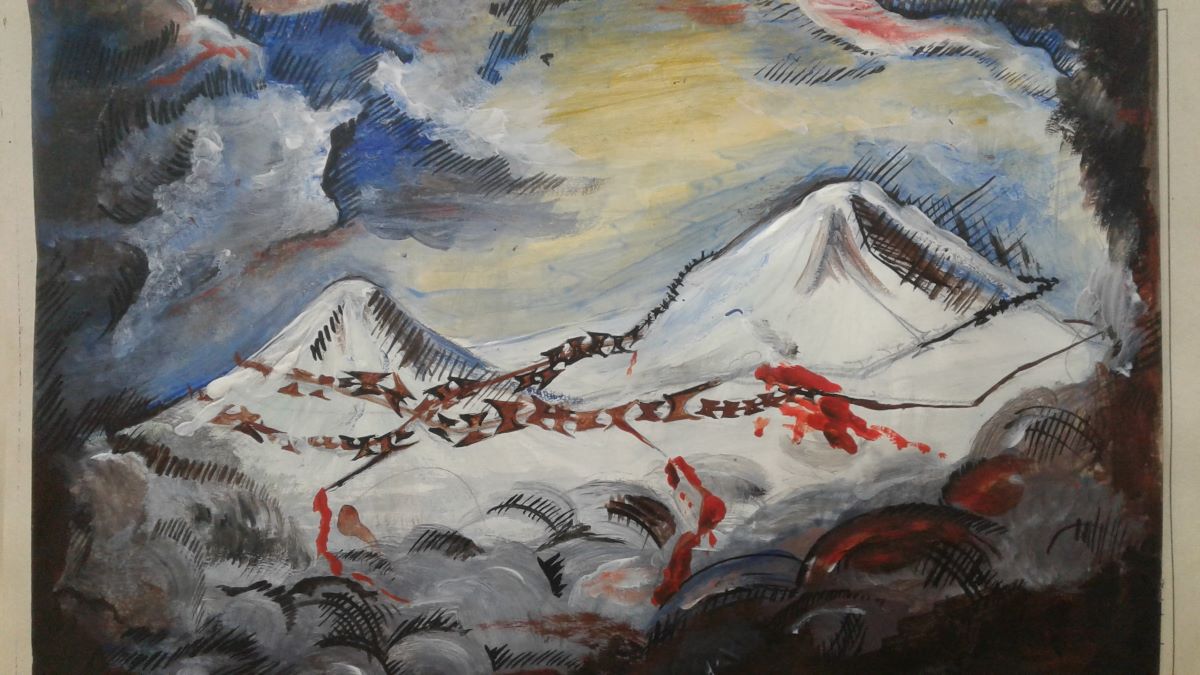
Представляем фрагменты книги одного из стоявших у истоков Арцахского движения деятелей — Радика Айрияна «Радость побед и горькая участь победителя», в которой он, не претендуя на объективную историческую хронологию, представляет свои воспоминания и через них — происходившие события.
Часть 1
В начале Карабахского движения, в 1987–1988 гг., я работал в Агропромышленном комитете НКАО в качестве ведущего инженера отдела материально-технического снабжения. С первых же дней Движения мы вместе с Эдиком Погосяном (Князь), Виталием Абрамяном и Араратом Айрияном, который в то время работал в Степанакертском педагогическом институте (физик), образовали группу. Начали со сбора подписей под обращениями в разные инстанции, органы тогдашнего Союза Советских Социалистических Республик в виде телеграмм, писем и статей (конец 1987 г.), некоторые из которых, хотя и редко, все же достигали цели.
В начале 1988 г. был образован Комитет революционного управления Нагорным Карабахом (КРУНК), куда в основном входили все директоры и руководители разных рангов. …
Впервые в новейшей армянской истории 1988 год сплотил все слои народа, в том числе диаспору, независимо от их принадлежности странам с разным социально–политическим строем. Люди поверили в способность нашего народа объединиться и всецело, без остатка посвятить себя общенациональному делу, что и послужило впоследствии залогом наших успехов. Народ беззаветно верил своим лидерам во главе с председателем КРУНКа Аркадием Манвеловичем Манучаровым, достаточно было обратиться к народу с обращением, любым, и люди следовали ему, выполняли задачу до конца.
На первом этаже дома напротив здания тогдашнего Степанакертского городского Совета был образован штаб нашего Движения, где собирались как лидеры, так и активисты, здесь же велось круглосуточное дежурство. В дальнейшем там почти все время собиралась и Рабочая группа, которая была сформирована в марте 1988 года. И хотя на ее учреждении я не присутствовал, тем не менее меня как активиста механически включили в группу, председателем которой был Рафик Габриелян, кому впоследствии вместе с другим активистом, одним из лидеров Движения Гамлетом Григоряном пришлось пройти через турко-азеровские застенки Баку.
Изначально деятельность Рабочей группы в основном заключалась в том, чтобы выполнять задания КРУНКа, через нее до масс доводились все решения и указания наших лидеров, одновременно она первой реагировала почти на все действия противоположной стороны по всей области. Поручения передавались через Р. Габриеляна, затем все собирались вместе и обсуждали данный вопрос, наши товарищи в основном добровольно, по собственному желанию вызывались выполнять то или иное задание, в чем бы оно ни заключалось. Все члены группы были готовы выполнять и выполняли любые задания – интеллектуальные, общественные и боевые, кроме того, нами осуществлялись и некоторые дипломатические миссии, что приносило хорошие результаты.
Поводом для изложения моих воспоминаний послужило то обстоятельство, что как-то на встрече членов Рабочей группы, собравшихся по какому-то вопросу, речь зашла о том, что председатель Национального Собрания НКР Ашот Гулян предложил помочь издать книгу о деятельности группы. Было это в 2010–2012 гг., и мы, собравшись, решили, что каждый напишет свои воспоминания. Некоторые члены Рабочей группы кое-что написали, однако это сделали не все. То, что мне удалось собрать, я передал одному знакомому журналисту, сам же решил свои мысли, рассуждения, а также факты, известные мне как очевидцу, изложить, начиная с 1988 года.
Так как одному трудно запомнить и описать действия всей группы, то мы решили, что каждый из нас будет писать свои воспоминания о тех событиях, в которых он участвовал лично или с кем-либо из товарищей, поэтому в дальнейшем я буду следовать этому принципу.
Как известно, первыми действиями в начале Движения были письменные обращения и телеграммы в разные инстанции высших партийных и исполнительных органов СССР. 12 февраля 1988 года состоялся первый массовый митинг. Уже на первом митинге народ требовал положить конец нашему существованию под игом Азербайджана, так как в советский период, когда во всех союзных республиках было равноправие, в НКАО ущемлялись права коренного армянского населения. Благодаря провозглашенной Михаилом Горбачевым политике гласности и перестройки мы потребовали вывести автономную область из состава Азербайджана и воссоединить с матерью–Арменией, хотя политика перестройки в дальнейшем оказалась предательской, о чём догадывалась передовая, прогрессивная часть российской интеллигенции. Даже складывали стишки наподобие «По России мчится тройка – Мишка, Райка, перестройка» и многое другое.
На центральной площади Ленина г. Степанакерта народ требовал провести сессию областного Совета народных депутатов. 20 февраля сессия состоялась, хотя и с большим трудом, так как прибывшие из Баку эмиссары вместе с руководством областного комитета партии делали все, чтобы помешать этому. Было принято решение обратиться в Верховные Советы СССР, Аз.ССР и Арм.ССР с просьбой о передаче НКАО из состава Азербайджана в состав Армении. После чего мы и весь мир стали свидетелями азеро-турецких варварских действий. Всего через несколько дней после сессии областного Совета в г. Сумгаит, затем и в Баку, Кировабаде, потом и во всех населенных пунктах Азербайджана, где проживали армяне, стали совершаться акты настоящего геноцида.
Нам стало совершенно очевидно, что горбачевская элита поддерживает действия турок-азеров. Перед началом сумгаитского геноцида Горбачевым по Центральному телевидению была произнесена фраза «А вы подумали о 300000 армян, проживающих в г. Баку?», что и послужило для турок прямым призывом к совершению бесчеловечных преступлений. Иначе они никогда не осмелились бы на массовые погромы и резню, притом в тогдашнем Советском Союзе, где жестоко наказывали за одно только инакомыслие, не говоря уже о каких-либо уголовных деяниях, совершенных на почве религиозной или национальной ненависти.
В Степанакерте, между тем, продолжались забастовки, шествия и митинги, в ответ на варварства азербайджанцев мы наводняли ЦК КПСС письмами и телеграммами. В столице области, кажется, весной 88-го, находились представители Москвы Демичев и Разумовский, на площади Ленина, перед обкомом партии, народ стоял круглосуточно. Помню, где-то во втором часу ночи, выступая на площади, Демичев обратился к народу с просьбой разойтись по домам, прекратить забастовку и подождать, пока в Конституцию СССР будут внесены изменения, позволяющие нам воссоединиться с Арменией. В это время они уговорили одного из лидеров Движения высказать такое же мнение, и народ начал колебаться.
У меня был товарищ, Альберт Газарян, который буквально ходил с Конституцией в кармане. Он жил прямо рядом с площадью Ленина, и я побежал к нему и сообщил, что происходит, попросил выйти на трибуну и рассказать о статье Конституции, касающейся права наций на самоопределение. Альберт так и сделал. Его беспрепятственно пропустили на трибуну, полагая, что он будет говорить в пользу Москвы. И он, достав из кармана Конституцию СССР и подняв ее над головой, обратился к митингующим и сказал, что нас хотят обмануть, утверждая, что Конституция якобы это не позволяет, но вот статья 71, которая гласит, что любая нация в СССР имеет право на самоопределение. Собравшийся на площади народ не стал расходиться, а забастовки продолжались еще долгое время.
В конце весны 1988г. центральные органы, пытаясь извратить, подменить суть Движения и перевести наши политические требования в экономическую плоскость, постановлением Совета Министров СССР выделили НКАО сумму в 450 миллионов рублей якобы на социально-экономическое развитие. И эта сумма втайне от народа была распределена властями Азербайджана по всем районам автономной области. Копия этого документа была направлена также в Агропромышленный комитет НКАО, где в то время я работал. Один из друзей передал мне документ на одну ночь, чтобы я ознакомился с его содержанием. И оказалось, что 60–70 процентов этой суммы были распределены по азербайджанским селам в районах НКАО, в то время как азербайджанцы составляли всего 15 процентов населения области. Я написал об этом письмо, указывал на то, что если даже в сложившейся сложной ситуации бакинские власти нагло расхищают, присваивают средства, выделенные Центром на развитие армянской области, то как можно находиться с ними в одной республике? Соответственно, резюмировал я, нам необходимо быть только лишь в составе Армении. Письмо было направлено мной Генеральному секретарю ЦК КПСС Михаил у Горбачеву, а копия – Председателю Совета Министров СССР Николаю Рыжкову.
И надо сказать, многоуважаемый Николай Иванович Рыжков не оставил письмо без внимания, оно было направлено им в Совет Министров Азербайджана, откуда мне пришел ответ, который вместе с ответом нашего облисполкома будет приложен к настоящим воспоминаниям, и пусть читатель сам судит о прошлом и будущем. В то время из Карабаха телеграммы в Центр шли сотнями, каждый писал о том, что у него наболело, и мне бы хотелось рассказать еще об одном из писем, написанных мной.
После сумгаитских событий мне уже была предельно ясна позиция Центра, но чашу терпения переполнило то обстоятельство, что в это время Верховным Советом СССР были внесены изменения в Конституцию СССР, однако обещанных Демичевым и Разумовским изменений мы так и не дождались. Мне стала очевидной вся фальшивая политика Горбачева, и я, написав об этом, назвал его «ренегатом», т.е. политической проституткой, но, как всегда, никакой ответной реакции ЦК на моё обращение не последовало.
Итак, до конца 1988 года наши будни проходили в постоянном противостоянии с противником вплоть до той поры, когда в Армении произошло чудовищное Спитакское землетрясение, которое почти переломило хребет нашего народа. И все-таки наш героический народ с честью вышел также из этого адского испытания, одновременно продолжая национально-освободительное движение в Арцахе. Ну а впоследствии появились также мнения о том, что землетрясение было вызвано искусственным путем.
В это тяжелое время очередным подлым поступком верховных органов СССР был арест членов Комитета «Карабах» во главе с Игорем Мурадяном в Армении и председателя КРУНКа Аркадия Манучарова в Степанакерте, которому было предъявлено сфабрикованное обвинение в коррупции. После этого наше Движение почти затихло. В Карабахе был создан Комитет особого управления во главе с Аркадием Ивановичем Вольским, светлая память о котором навсегда останется в сердцах тех, кому пришлось напрямую общаться с ним по любому вопросу, связанному с конфликтной ситуацией, с нашими противниками. Комендантом района чрезвычайного положения был назначен генерал Сафонов, который как-то в интервью журналистам сам признался, что его миссия в НKAO заключалась в том, чтобы поддерживать и защищать интересы азербайджанского населения. Выходит, что миротворческая деятельность генерал-майора совершенно не интересовала. Солдафон и проазербайджански настроенный тип, который нанес много вреда нашему народу, впоследствии был «удостоен» покушения на него со стороны арцахских патриотов-мстителей, после чего его след потерялся.
Как было сказано выше, после ареста наших лидеров и ужесточения режима комендатуры национально-освободительное движение в Арцахе почти приостановилось, но были ребята, которые самостоятельно продолжали борьбу, в том числе мы – друзья из агропрома. Однажды Эдик, Виталик и ваш покорный слуга вместе с Араратом, собравшись и обсудив ситуацию, пришли к выводу, что такое бездействие может привести Движение к провалу. Мы понимали, что если народ остынет и его охватит апатия, то потом будет весьма трудно снова поднять дух людей до высокого уровня патриотизма.
В результате долгих размышлений мы пришли к выводу, что надо выпускать листовки и распространять их в городе Степанакерте, а затем и в других населенных пунктах области. Оказалось, что у нашего друга Виталика имеется пишущая машинка, которая в настоящее время находится в экспозиции Музея погибших воинов-азатамартиков. И мы решили в квартире у Эдика (в то время его семья проживала в другой квартире) печатать листовки и самим же их распространять, так как требовалась строжайшая конспирация. Хотя дом, в котором проживал Эдик, был агропромовский, все равно во время печатания листовок Эдику приходилось стучать на пианино, чтобы никто из соседей не услышал стук пишущей машинки. В первой листовке мы потребовали свободу членам комитета «Карабах» и Аркадию Манучарову. Во второй листовке впервые с начала нашего Движения мы назвали его национально-освободительной борьбой и призывали вести ее до окончательной победы, т.к. она общенародная и справедливая, и победа обязательно будет за нами.
Листовки мы начали выпускать в январе 1989 года, и когда почувствовали, что их крайне мало и втроем мы просто физически не в состоянии напечатать на машинке нужное количество, то подключили к делу Сержика Григоряна. Мы знали, что он человек преданный и вне подозрения, и после этого дело пошло получше. У него был знакомый фотограф, и мы стали в большом количестве тиражировать листовки посредством фотосъемки. Привлекли к работе еще несколько человек – надежных, из Рабочей группы. Это были Размик Алексанян, с которым я участвовал во многих мероприятиях, Вардан Балаян, Авет Григорян, Араксия Айрапетян и еще кто–то, чьи имена, к сожалению, не могу вспомнить, с помощью которых мы распространяли листовки по всему Степанакерту. Их мы выпускали до мая 1989 года. Последнюю выпустили где-то 2 или 3 мая с призывом о начале нового этапа забастовок, шествий и митингов. 9 мая, если не ошибаюсь, вывели народ на площадь и на том выпуск листовок прекратили. В последней листовке мы требовали приезда в Нагорный Карабах Горбачева и окончательного решения нашего вопроса о воссоединении с Арменией.
Члены Рабочей группы одновременно участвовали в разных мероприятиях, связанных также с защитой наших граждан, проживавших в близком соприкосновении с азерами или в совместных с ними населенных пунктах, где численность противника превышала нашу. Это был Гасанабад, куда мы неоднократно выезжали почти всей группой, это были пригород Степанакерта Киркиджан, село Храморт и другие населенные пункты.
Считаю нужным подробнее рассказать об аскеранском случае, точную дату не помню, но это было летом 1989 года. В поселок Аскеран должен был войти контингент спецназа и водворить там представителей Комитета особого управления. Из Степанакерта в Аскеран выехала небольшая группа активистов Движения, один из них, Левон Мирзоян, был с видеокамерой. На площади перед райкомом партии собрались аскеранцы. Члены группы провели митинг, призвав народ не допускать у себя чужой власти, сняли все на камеру и вернулись в Степанакерт. Троих из Рабочей группы – меня, Авета Григоряна и Рашида Мангасаряна, оставили в Аскеране, чтобы мы помогли организовать сопротивление. Что мы могли сделать против спецназа, притом без какого–либо оружия, не имели даже представления. Полагали, что у местной организации имеются какие-то планы, и поздно вечером, не дождавшись никаких вестей, мы с Аветом окольными путями, так как уже действовал комендантский час, пришли к Марату Акопджаняну, который в то время был начальником районного отделения связи и членом руководства Движением в Аскеране. Спросили, есть ли какие-либо планы, оружие и что они намерены предпринять? И он сказал, что планов никаких: что мы можем сделать против советской армии? Мы вернулись обратно в райисполком, председателем которого в то время был Вилен Ефремович Кочарян, и в его кабинете стали ждать дальнейшего развития событий. И уже в полночь группа спецназа с автоматами на БТРах и другой технике въехала на площадь перед райкомом партии. Вилен Ефремович обратился к нам: «Ребята, как видите, мы ничего не можем сделать, а если вас здесь найдут, то арестуют как экстремистов и отвезут в Агдам или Баку, так что не лучше ли вам уйти?». Мы с ним согласились и покинули здание через окно на первом этаже, выходившее на задний двор. Но, как ни странно, один из наших товарищей – Рашид Мангасарян, не стал уходить с нами и остался в здании вместе со сторожем райисполкома. К счастью, спецназовцы его не задержали, приняв, наверное, за местного.
Таких случаев, когда нас отправляли на какие-то задания, не позаботившись о страховке, было множество, но в то время мы были готовы на всё и не думали о последствиях. …
Итак, независимо от ситуации, царившей на территории НКАО, Рабочая группа не прекращала свою деятельность. Очередным наболевшим вопросом, императивно требовавшим своего решения, была проблема задержанных ребят, которых содержали в Шушинской тюрьме, где бесчинствовали азербайджанские милиционеры-надзиратели. Мы подняли вопрос перед строительным трестом, и в течение нескольких месяцев в Степанакерте был построен нынешний изолятор временного содержания (ИВС).Однако из-за специальных тюремных дверей, которые должны были привезти через Лачин, но не могли, возникло новое препятствие. Человек, наверное, пять из нашей группы пошли на прием к председателю Комитета особого управления Аркадию Вольскому и поставили перед ним несколько актуальных вопросов, и основной из них касался доставки пресловутых дверей. Аркадий Иванович ответил, что турки-азеры якобы не пропускают машины через Лачин. Мне стало смешно, и я с ухмылкой спросил у него: «А что, Советская Армия не в силах проехать через Лачин?». Он, тоже ухмыляясь, ответил, дескать, нет. Тогда Рафик Габриелян предложил: «Ну что ж, если вы не можете, дайте нам военную форму и оружие, и мы сами проведем машины». Он пообещал, что двери скоро доставят, и своё обещание выполнил.
Следующая, заслуживающая внимания встреча с А.И. Вольским состоялась в связи с задержанием в г. Физули начальника милиции Гадрутского района, если не ошибаюсь, звали его Владимир Степанян. Мы срочно опять отправились к Вольскому. Он тут же вызвал к себе генерала Сафонова, о котором я упоминал выше, и приказал немедленно связаться с комендатурой г. Физули и потребовать освободить начальника раймилиции, что и было сделано в тот же вечер. Истины ради следует отметить, что все вопросы, по которым мы, члены Рабочей группы, обращались к Вольскому, получали положительное решение. Необходимо подчеркнуть также, что однажды Аркадий Иванович сказал нам, что члены нашей группы могут по всем вопросам приходить к нему в любое время дня и ночи, и он нас примет, лишь бы не приходили некоторые лидеры Движения, которые преимущественно просят его о чем-то личном. И он назвал поимённо многих, о чём, полагаю, сегодня не стоит писать. Мы с ним сотрудничали до конца пребывания в НКАО Комитета особого управления. После прекращения деятельности КОУ был образован так называемый Оргкомитет во главе с Виктором Поляничко. С этим проазербайджанским органом никто в Арцахе не имел контактов, и наш народ категорически и всецело бойкотировал данную структуру. Однажды из гранатомета даже был выпущен снаряд по кабинету Поляничко в здании обкома партии, но неудачно. Впоследствии он был убит на Северном Кавказе.
Наше повсеместное противостояние с противником продолжалось, происходили стычки, перестрелки, убийства, захват заложников и т.д. Азербайджанцы вели себя чрезвычайно нагло, в большинстве случаев используя в своих целях контингент советских войск, некоторые представители которого легко подкупались ими.
Следует отметить, что после освобождения из Бутырской тюрьмы членов Комитета «Карабах» в Армении была создана новая организация под прекрасным названием Армянское общенациональное движение –АОД. В начале мы, простые смертные, весьма обрадовались, так как думали, что, наконец, вся нация, невзирая на принадлежность разным политическим партиям и группировкам, будет объединена в единый кулак. Увы, этого не случилось. Как оказалось, Левон Тер-Петросян, избранный председателем этой организации, преследовал цель (возможно, по заданию извне) отстранить от руководства Движением преданнейшего делу человека – Игоря Мурадяна и его сторонников. В Степанакерте также Совет директоров, который был организован после расформирования КРУНКа, на общеобластной конференции делегатов был преобразован в движение «Миацум» во главе с Советом из одиннадцати человек, который должен был коллективно руководить Движением. Но Роберт Кочарян настаивал, чтобы обязательно был избран председатель Совета, причем на этой должности должен быть именно он, так как этого желает Ереван, то есть Тер-Петросян. Таким образом, Роберт Кочарян, верная рука Левона Тер-Петросяна, был избран председателем организации….
1989 год был знаменателен ещё и тем, что с помощью КОУ нам удалось отделить наши фонды материально–технического обеспечения от Азербайджана и получать средства напрямую из Москвы. Находясь в очередной командировке, мне нужно было получить наши фонды по многим позициям из организации «Союзагропромкомплект», председателем которой был молодой человек, оставивший у меня впечатление истинного патриота своей Родины и истинного христианина. К великому сожалению, я не помню его имени, так как прошло уже более 20 лет. В этой организации работало и множество ярых сторонников Азербайджана, которые старались чинить нам всяческие препоны. Так вот, он вызвал к себе всех начальников отделов и дал им поручение со следующими словами: вот представитель НКАО, и пусть каждый по своему отделу отсчитает положенные Карабаху 4 процента от фонда Азербайджана и, выписав наряд, отдает ему копии. Хотел бы привести один лишь пример, как это выглядело по части насосов. Если мы, т.е. НКАО, за год получали из Азербайджана по 4–5 насосов, то по наряду эти 4 процента составляли около 150 насосов.
Как–то в его кабинете в беседе с ним зашёл разговор о политике, и он спросил у меня, кому, на мой взгляд, можно доверить власть в России. И я ему ответил, что, конечно же, Ельцину, ведь мы все тогда были знакомы с ноябрьским выступлением Ельцина на заседании Политбюро ЦК КПСС, после которого его отстранили от всех должностей, и он перешёл на сторону оппозиции. Он тогда сказал мне, что многое создано искусственно, и Ельцин не совсем тот, за кого себя выдает. И действительно, в деле разрушения советского государства Ельцин оказался продолжателем идей Горбачёва. Тем не менее, я уверил своего собеседника, что лучшей кандидатуры, чем Борис Ельцин, пока нет, и он согласился, заметив, однако: «Поживем – увидим». Итак, в России шли свои демократические преобразования, у нас же продолжалось неравное с точки зрения как людских ресурсов, так и численности вооружения противостояние, а вернее – уже вооруженная борьба.
В то время Министерством внутренних дел СССР, которое в условиях комендантского режима руководило также и милицией НКАО, у нашего населения было конфисковано всё охотничье оружие, у азербайджанцев же имелись контингент собственных подразделений ОМОН и соответственное вооружение, и если учесть их менталитет, способствующий совершению геноцида, то можно представить наше состояние.
В таких условиях нашему народу благодаря своему энтузиазму и с помощью множества преданных и отчаянных ребят приходилось удерживать натиск семимиллионного противника и одновременно добывать себе хоть какое–то вооружение, разумеется, окольными путями. Одновременно, начиная с 1989 года, было решено создать на предприятиях и в спортивных залах г. Степанакерта группы для занятий боевыми видами спорта. Это дело было поручено мне и Размику Алексаняну, который был одним из преданнейших ребят (к сожалению, он погиб в составе Балуджинской роты еще в 1992 г. в одном из боев).
Со своим поручением мы, конечно, справились, сформировав группы на Степанакертском электротехническом заводе, винзаводе, в школах, спортивных залах и т.д. К сожалению, всех тренеров не помню, кроме Сергея Гягунца, занимавшегося рукопашным боем, Славы Гасумяна (карате), Эрика (самбо).У всех остальных прошу прощения, ведь в то время в целях конспирации мы списков не вели. Один из тренеров по карате, имени которого, к сожалению, опять же не запомнил, дал мне литературу по йоге, которую я размножил для занятий в группах. Один экземпляр оставил себе, занятие по которому позволило мне значительно поправить свое здоровье и в трудные времена обходиться без врачей.
Стоит отметить, что в то время Рабочей группой контролировалось множество сфер, связанных с жизнью общества: мы следили за ценами на рынке, отпуском товаров с торговых баз, состоянием беженцев и их размещением. Приходилось бывать и у руководителей города Степанакерт, иные из которых ущемляли права беженцев, которые и без того пострадали от рук азербайджанцев. Одним словом, мы реагировали на любые нарушения, кем бы оно не совершалось.
Как было сказано выше, противостояние с турками в неравных условиях продолжалось. И вот весной 1990 года мы узнали, что в Москве проводится выставка-продажа конверсионной военной техники. Меня вызвал председатель АПК, где я работал, и командировал в Москву для приобретения подходящей техники.
Прилетев в Ереван, я, как всегда, остановился у своего двоюродного брата Людвига. На следующий день встретился с товарищами, в частности, с Самвелом Мурадяном, с которым меня познакомил еще в 1988 году Артур Алексанян. Самвел был большим патриотом и в то время занимался также предпринимательской деятельностью, имел большой круг знакомств. Он сразу договорился насчет билета в Москву и связался со своим московским другом по телефону, чтобы тот помог мне лучше ориентироваться в столице, его фамилия была Демирчян.
Прибыв в Москву, я из гостиницы позвонил Демирчяну. На следующее утро встретился с ним, и мы вместе поехали на Фрунзенскую набережную, где располагалась ярмарка конверсионной военной техники. Весь день мы ходили по ярмарке, пытаясь найти что-то необходимое для нас, но так и не нашли, потому что ярмарка открылась за 10–15 дней до нашего прибытия и все было разобрано. Конечно, нам попадались разного рода посредники, больше смахивавшие на мошенников, с которыми мне не хотелось иметь дела. На ярмарке я повстречал наших ребят из Степанакерта, которые тоже приехали с той же целью. Это были директор Степанакертского производственного комбината Слава Агаджанян и директор объединения «Сельхозхимия» Рудик Азарян, которые также ничего нужного не нашли, но решили остаться на ярмарке для участия в вечернем аукционе. Я же с Демирчяном поехал в гостиницу, где мы и распрощались. Ночью я не мог найти себе покоя, тяжело было возвращаться с пустыми руками. Мне примерно было ясно, что искать, и на следующий день я снова, но уже один, отправился на ярмарку и стал искать представителей танкового завода. Мне повезло, нашел представителя Львовского танкового завода Фурманова, который, к счастью, оказался человеком с большой буквы, истинным христианином и патриотом своей нации. Узнав заранее о том, что азеры приобрели на Уральском заводе БТР-ы, которые позволялось применять в нефтяной промышленности, я спросил у него, что у них можно приобрести помощнее. Он ответил, что у них есть танки, которые разрешается использовать в лесной промышленности. Договорившись встретиться во Львове, мы обменялись визитками, и я, проводив его во Львов, через день поехал к нему.
Познакомившись на месте с командованием завода и полностью изучив технологический процесс проведения капитального ремонта танка Т–54, я решил приобрести именно их, без башни и вооружения. Произведя все необходимые расчеты, оценили стоимость одной машины в 24 тыс. рублей. Для сравнения могу отметить, что в 1990 году за эти деньги можно было приобрести бывшую в употреблении легковую автомашину «Волга» или же один прибор ночного видения. Итак, заключив от имени АПК НКАО контракт на изготовление сорока танков приблизительно на полтора миллиона рублей, я вернулся домой. В Ереване и Степанакерте меня встретили с большой радостью, никому не верилось, что в 1990 году мне удалось договорится о поставке в НКАО настоящих танков, но пока мы держали это в тайне.
Но жизнь продолжалась, борьба с турками – тоже. На нас тяжело сказывалось отсутствие даже охотничьего оружия. Следует отметить, что во все времена, когда турки собирались на государственном уровне совершать в отношении нас свои варварства, против мирного населения, то есть своих же граждан, но армянской национальности, ими применялись регулярная армия и внутренние войска. Они использовали один и тот же почерк: в первую очередь конфисковывали у населения всякое оружие, охотничье и другое, после чего внезапно вводили в населённые пункты войска, полностью либо частично уничтожали жителей, оставшихся же людей угоняли для дальнейшего истребления на пустынных дорогах, вне населенных пунктов. Так было во время геноцида 1915 года в Османской империи, в результате которого Турция при попустительстве сильных мира сего и при прямом сговоре с Германией уничтожила полтора миллиона армян, не говоря о других христианских народах, тоже подвергшихся со стороны турок геноциду, который по настоящее время остается безнаказанным! Более того, ещё в 1914 году они провели массовый призыв в армию армян, способных носить оружие, чтобы вообще не было никакого сопротивления. То есть турки боялись даже женщин, детей и стариков, и, прежде чем напасть своей регулярной армией, и тех разоружили. То же самое произошло и в 1918 году. Потерпев поражение в Первой мировой войне, турки тем не менее умудрились сговориться с Англией, Германией и даже с уже Советской Россией во главе с Лениным. Более того, невзирая на совершенный Турцией геноцид, квалифицируемый международным правом как преступление против человечности, Советская Россия предоставила ей огромное количество оружия и золота, в то время как сама крайне нуждалась во всем этом, и помогла Анкаре ввести свои войска на территорию уже Восточной Армении с целью полного уничтожения армян и захвата ее столицы Еревана. Благо, туркам это не удалось. Следует также отметить, что бакинскую коммуну во главе со Степаном Шаумяном уничтожили тоже не без помощи Ленина, чтобы она не стала помехой в осуществлении планов турок и большевиков по уничтожению Восточной Армении.
В 1920 году то же самое произошло в тогдашней столице Арцаха городе Шуши. Один из великих армянских полководцев того времени Андраник Озанян, которого турки боялись как огня, со своей группой войск шёл на защиту Шуши. Однако турки с помощью англичан смогли уговорить его не идти на город, гарантировав полную безопасность армян, с которыми у них якобы братские добрососедские отношения. И когда Андраник Паша, как его звали турки, повернул своих бойцов обратно и под принуждением тогдашних властей дашнакской Армении покинул пределы страны, турецкие войска вошли в Шуши и истребили 20 тысяч армян.
То же самое произошло уже в Советском Союзе на исходе ХХ века, когда в 1988 году народ Арцаха поднял справедливый вопрос о воссоединении Арцаха с матерью-Арменией. Центральные власти во главе с Михаилом Горбачёвым совершили, по сути, очередной геноцид армян на всей территории Азербайджана, где азеров было в десятки раз больше, в Арцахе же установили режим особого управления и комендантский час, введя на территорию автономной области большой контингент внутренних войск СССР. Затем турки-азеры, имея собственные милицейские войска и ОМОН, вооруженные до зубов, перед тем как совершить очередной геноцид над безоружными армянами уже на территории Арцаха, с помощью Комитета особого управления и подразделений внутренних войск СССР провели полную конфискацию у населения даже охотничьего оружия.
И тут надо отдать должное нашим лидерам из Еревана, в частности, Вазгену Манукяну, который договорился с руководством «Охотсоюза» Армении о продаже Карабаху охотничьего оружия. Через АПК НКАО, председателем которого был Леонард Петросян, мы из всех районов области перечислили финансовые средства на счет «Охотсоюза» Армении. Вместе с квитанциями и доверенностью АПК меня командировали в Ереван для приобретения оружия.
Из Степанакерта мы полетели с Робертом Кочаряном, с нами, скорее всего – для страховки, был также заведующий степанакертским охотничьим магазином Вова, если не ошибаюсь, Мусаелян, который впоследствии погиб при освобождении Ходжалу (февраль 1992 года). В Ереване, как всегда, остановились в гостинице «Двин», на следующий день мы с Робертом Кочаряном встретились с Вазгеном Манукяном и втроем поехали в управление «Охотсоюза». Манукян, представив нас управляющему, вкратце рассказал, кто мы такие, и, предъявив все находившиеся у меня документы и доверенность, попросил его отпустить мне все оружие, которое у них имеется. Тот согласился и, выписав соответствующий документ, указал мне, где я должен получить товар.
Думаю, здесь я должен поближе познакомить читателя с одним из наших друзей по имени Тигран (у него была своя машина марки ЕрАЗ-крытая, с металлическим кузовом), который того заслуживает, так как большинство наших мероприятий не обходилось без него и его машины. На вид ему было лет 17–18, светловолосый мальчик, которого нельзя было даже заподозрить в том, что он способен на такие бесстрашные дела. В то время он дружил с моим племянником Самвелом, двоюродным братом Людвигом и другими ребятами, добывая оружие и боеприпасы, которые затем переправлялись в Арцах.
И вот на следующий день мы с Тиграном на его машине подъехали к магазину охотников, который находился рядом с площадью Республики. Я подошел к заведующему, представился, предъявил свои документы и сказал, что приехал за оружием и машина ждет снаружи. Он уже был в курсе, и сразу же началась погрузка. Мы погрузили около трехсот единиц, точное количество сейчас уже не помню. Ружья были трех марок: одноствольные пятизарядные автоматические 12–го калибра, двуствольные с вертикальным расположением стволов, калибр не помню, и трехзарядные с затвором, 20-го калибра, которые можно было переделать под карабин.
Во время погрузки я заметил, что к заведующему подошел мужчина в штатском, показал ему документ и, видимо, потребовал объяснить, что тут происходит, кому отгружается такое количество оружия. Заведующий, объяснив, в чем дело, указал на меня, дескать, спросите у него, но тот, как ни странно, стоял и смотрел на меня, но так и не подошел. Закончив погрузку, мы уехали, так и не поговорив. Быть может, причиной тому, что он не помешал нам, возможно, даже ценой собственной карьеры, явилось то, что он не захотел стать предателем, а продолжал жить с чистой совестью.
Машину с грузом Тигран пригнал к какому-то частному дому с высоким забором и глухими воротами. Дом, если не ошибаюсь, принадлежал одному из его родственников. Мы загнали машину во двор и закрыли ворота, и она стояла там до тех пор, пока через несколько дней ребята не подобрали подходящий рейс нашего ЯК-40 в Степанакерт. Вместе с нашим неутомимым Тиграном и Вовой, заведующим степанакертским охотничьим магазином, мы ночью заехали на территорию аэропорта, подъехав прямо к самолету. При помощи пилота, имя которого я, к сожалению, забыл, загрузили все оружие в туалет и с трудом закрыли дверь. Мы с Вовой остались в закрытом самолете до утра, пока не объявили посадку на рейс. Командиром корабля был пожилой мужчина, который, должен сказать, и не знал, что за груз находится на борту, и мы с Вовой даже заплатили за билет как «левые» пассажиры, чтобы не вызвать никакого подозрения. Был 1990 год. В то время в Степанакертском аэропорту еще находились советские солдаты. Некоторые из наших ребят – Эдик (Борода) и Самвел-беженец из Баку (впоследствии во времена Леонарда Петросяна он работал в составе Комитета специальных программ (Комитет «Арцах») и, будучи азартным дельцом, из-за растраты крупной суммы денег покончил жизнь самоубийством), находились в близких отношениях с контингентом военного подразделения аэропорта.
Мы благополучно прилетели в Степанакерт. Как обычно, экипаж вышел первым, затем уже вышли все пассажиры. Я покинул самолет последним. Вижу, поблизости стоит Артур Алексанян, подошел к нему и спросил, что будем делать. Он сказал, что все нормально, и в это время подъехала крытая почтовая машина. Вплотную подогнав машину к самолету, начали погрузку. Артур предложил мне поскорее уехать домой, чтобы не было подозрения.
Ребята без приключений довезли оружие до места, а затем оно было распределено по всем районам и селам области, что в то время, когда у нас было конфисковано все оружие, а турки бесчинствовали, можно сказать, стало спасением для наших ребят. Чтобы читателю была ясна ситуация, отмечу, что лично для себя из этого оружия я не взял ни единицы, и когда меня спросили, почему, я ответил: зачем мне ружье, которое я должен всегда прятать, в то время как оно может принести гораздо больше пользы на боевых постах?
Повседневная работа нашей группы продолжалась. Однажды нам сообщили, что в областной госметеослужбе продолжают предоставлять отчеты Баку, причем топонимы используют не армянские, а азербайджанские, которых прежде никогда и не было. И вот нам с Аветом Григоряном поручили позвонить в эту службу и сделать руководителю предупреждение.
Мы должны были позвонить с телефона–автомата, и когда проходили возле книжного магазина, Авет попросил зайти, так как ему надо было увидеться с завмагом Раисой Артемовной, которая была матерью нашего товарища Камо (Чугун) – активиста Движения, погибшего в 1992 году при защите одного из сел Аскеранского района. Вошли в магазин, поговорили с Раисой Артемовной, затем Авет взял и позвонил с их телефона в указанную службу и высказал все, что мы должны были сказать по телефону-автомату. Я упрекнул его, заметив, что эти телефоны могут прослушиваться, к чему нам лишние приключения, но ему словно было нипочем. Мы оттуда ушли к нашему штабу, Авет же затем отправился домой. Через некоторое время он появился у меня с книгой и предложил вместе с ним отнести ее в магазин. Я не пошел, и скоро нам стало известно, что в книжном магазине Авета арестовали. В этот период были арестованы и другие активисты, всех их отправили в Россию, где они провели месяц в тюрьме. Тогда в районе чрезвычайного положения силы, осуществлявшие этот режим, могли задерживать людей на один месяц, если не доказана вина задержанного в более тяжком, по их меркам, преступлении.
Спустя несколько месяцев после заключения контракта на поставку танков мне вдруг из Львова позвонил Виктор, представитель завода, и сообщил, что согласно договору полностью изготовлено семь единиц Т–54, сказал, если хотите, можете приехать и получить, а можете подождать, пока изготовим остальные или хотя бы половину. Я связался с Артуром, рассказал обо всем, и он, посоветовавшись с другими, позвонил и сказал, чтобы я поговорил с Робертом Кочаряном, срочно оформил командировку и прилетел в Ереван, откуда меня отправят во Львов.
Я поговорил с Р. Кочаряном, объяснил, что мне нужно срочно вылететь во Львов и отправить оттуда танки, и мне нужны некоторые средства для того, чтобы просто угостить там ребят. Ведь прежде я, куда бы и за чем бы не ездил, никогда ничего не брал, но своих средств в то время у меня было недостаточно. И Роберт мне сказал: «Радик, я не верю, что ты сможешь получить и прислать для Карабаха танки, но если ты это сделаешь, я отдам свой нос на отсечение. (Он имел в виду известное армянское изречение, характеризующее невыполнимость какого-либо дела.) Ну а если хочешь просто погулять, то, пожалуйста, езжай и бери у Артура сколько тебе угодно и лети во Львов».
Я прилетел в Ереван, встретился с Борисом Дадамяном и Артуром Алексаняном, которые дали мне две тысячи пятьсот рублей, т.е. пачку двадцатипятирублевок, и я отправился во Львов. Меня встретили хорошо, показали готовую технику, завели машины и проверили исправность, затем погрузили их на платформы. Оставалось лишь перечислить деньги на их счет, чтобы можно было отправить танки по маршруту. Маршрут, конечно, определял я, ибо понимал, что попади они в Азербайджан, сразу же будут конфискованы. Поэтому мы избрали маршрут через Грузию, в обход Азербайджана, конечный пункт доставки – станция ЗОД, из названия которой невозможно понять местонахождение. Но денег еще перечислено не было, и прямо с завода позвонив в Ереван своему товарищу Самвелу Мурадяну, о котором было сказано выше, я сообщил, что все готово, остается сделать перечисление, чтобы я мог отправить эшелон. И он на следующий же день организовал перечисление, и не только за семь, а за все сорок танков.
Отправив эшелон, я вылетел в Ереван. Меня встретили с ликованием, несколько дней не отпускали домой. Когда вернулся, у меня еще оставалось пятьсот рублей, которые я намеревался вернуть Артуру, но он едва не обиделся. «О чем ты, Радик? – сказал он. – Люди берут по 50 тысяч для приобретения оружия, некоторые их теряют, о чем ты говоришь? Купи детям конфеты и подарки».
Тогда почти все наши ребята останавливались в гостинице «Двин». В то время в ней жили Сурен Цатурян и Акоп Багманян, которые занимались добыванием оружия, боеприпасов и отправкой их в Карабах. У обоих по три месяца не было заплачено за гостиницу, и я, оплатив им счет за проживание, а на остальные взяв подарки для детей, вернулся в Степанакерт.
Дней через пятнадцать меня срочно вызвал председатель нашего АПК Леонард Петросян. Он дал мне ереванский номер телефона и сказал, чтобы я позвонил по нему. Придя в свой кабинет, я набрал номер и представился. На том конце провода мне ответил мужчина, сказал, что он секретарь Варденисского райкома партии (к сожалению, мне так и не довелось с ним встретиться, имени его не помню),и сообщил, что к ним поступил эшелон с семью танками, принадлежащими АПК НКАО, они их разгрузили и спрятали, но не знают, что с ними делать дальше. Я выразил ему свою бесконечную благодарность и посоветовал немного подождать, сказал, что скоро из Еревана приедут ребята, которые знают, что с ними делать. После этого позвонил в Ереван и сказал, что танки поступили в Варденис, поезжайте к секретарю райкома, он ждет вас. Они настолько были рады этой вести, что не знали, как меня благодарить, один из наших лидеров даже сказал мне, что мой памятник установят в Ереване на месте памятника Ленину! Что только не говорят люди в порыве радостных чувств…
Через некоторое время в газете «Советская Россия» за № 66 от 22 марта 1990 года вышла статья «Выгодный покупатель», где подробно описывалась вся моя сделка по приобретению у Львовского танкового завода указанной конверсионной техники. Затем эта же статья появилась в газете «Бакинский рабочий», после чего начались преследования. Вначале из Львова прилетел в Карабах представитель завода, чтобы вернуть обратно танки и расторгнуть договор о поставке остальной техники. Мы его встретили. Он был уже хорошим нашим другом, можно было только мечтать, чтобы хотя бы половина наших соотечественников была такой же, как он – преданным своей вере и нации человеком. Он оставался у нас около недели, мы его ознакомили с нашими достопримечательностями, затем снабдили документом о том, что вышеуказанная техника будет использована в лесной промышленности. Относительно остальной же техники договорились, что пока приостанавливаем договор, и если будет письмо из главного управления бронетанковых войск, поставка продолжится.
После этого уже начались мои преследования. Этим делом занимались военная прокуратура и Комитет госбезопасности, сюда приезжал даже один русский парень из КГБ Азербайджана. Военным прокурором и одновременно прокурором области в то время был Василенко, имени его не помню. Он лично и вел мое дело, и допрашивал меня. В основном речь шла о том, кто меня посылал в командировку, кто лично давал задание, кто помогал в финансировании и зачем нам такая мощная техника при наличии советской власти и т.д. Одновременно с допросами ими на эту тему был составлен один текст, который завершался словами «Кому служит инженер Айриян?». И в течение 2–3–х месяцев этот текст читался по радио, озвучивался через громкоговорители, установленные на курсирующем по городу БТР. Позднее, когда они уже оставили комендатуру, выяснилось, что ими на эту же тему были подготовлены тысячи листовок, но их не успели распространить. Возможно, потому что на одном из допросов я обратился к прокурору Василенко со словами: «Зачем вы делаете это? Вы же искусственно делаете из меня национального героя?». И только после этого они прекратили свою агитацию относительно меня. Представитель КГБ из Баку тоже пытался из меня вытянуть имена, но, также ничего не добившись, так ни с чем и уехал.
Был интересный случай, о котором мне хотелось бы рассказать, чтобы в дальнейшем наши соотечественники не совершали подобных поступков. Во время моего допроса, который проводил представитель нашего областного КГБ в кабинете одного из работников АПК, мой этот коллега часто встревал в разговор со своими расспросами, и когда он спросил, зачем мне нужны были коротковолновые радиостанции на танках, я объяснил, что у нас нет средств связи, с помощью которых можно было бы связаться с районами. Но когда он спросил, зачем тебе приборы ночного видения, тут я не выдержал и возмущенно обратился к нему: кто же меня, в конце концов, допрашивает, ты или он? Ему, конечно, сказал это на армянском, а затем сотруднику КГБ по-русски объяснил, что нам часто приходится работать ночью, так как днем турки обстреливают наших трактористов. Я не стал разоблачать своего коллегу, так как мы вместе долго работали, он был хорошим специалистом, по характеру тихим скромнейшим человеком, и если бы я рассказал об этом нашим ребятам, его могли бы строго наказать. Мне было жаль его, тем более что, как выяснилось позднее, представитель КГБ оказался честным, благородным парнем и поддерживал наше правое дело, а потому не стал раздувать это дело. Впоследствии, в 1991 году, этого русского парня по пути из Мартакерта в Степанакерт застрелили турки в Агдаме. Вечная ему память! Он навсегда останется в наших сердцах и памяти, как один из лучших представителей русского народа.
Но в то время меня не арестовали, что стало бы тогда концом для меня, на мой взгляд, по двум причинам: первая заключается в том, что они хотели использовать меня в целях своей пропаганды, а вторая – в том, что председателем АПК НКАО тогда был Леонард Петросян. Он был с ними со всеми в приятельских отношениях, и к тому же в Москву на ярмарку конверсионной военной техники я был командирован им же, поэтому он и не допустил моего ареста, что могло бы косвенно затронуть и его интересны.
1990 год был для меня самым насыщенным. Еще в самом его начале мне было предложено Размиком Петросяном, который с начала Движения курировал почти все отряды самообороны, формировавшиеся как по месту жительства, так и на предприятиях и редко состоявших из близких друзей и родственников, по заданию из Армении тайно организовать из боевых групп единое военное подразделение. Он дал мне списки, видимо, лишь половину тех, которые имелись, чтобы после окончания первого этапа начать работу и со второй их частью. Об этом знали мы с Размиком Петросяном, Армо Цатурян – председатель Совета директоров, который в случае необходимости обеспечивал явку групп с промышленных предприятий, а также врач, заведующий терапевтическим отделением областной больницы Эдик Бабаян, который обеспечивал прохождение призывниками медицинской комиссии, после чего они зачислялись в личный состав. Но, увы, это мероприятие нам не дали довести до конца. После того, как кому-то из лидеров Движения стало известно о нашей цели, они просто препятствовали нам, и посоветовавшись, мы решили прекратить эту работу, чтобы не быть преданными, что сулило большие неприятности, самая страшная из которых была оказаться в азеро-турецких тюрьмах. Списки групп я тогда спрятал в старых папках, в которых хранились документы нашего отдела АПК относительно отпуска запасных частей, папки же были помещены в архив. Кстати, уже после войны, в 2000 году, мы хотели найти эти списки просто для истории, но их там не оказалось. После расформирования АПК они или ушли с папками в Агросервис, или же были найдены теми, кто был связан в то время с органами госбезопасности.
Следующим моим заданием было приобретение мельниц. Как известно, в тот период на территории НКАО не было ни одного мукомольного комбината, ближайший из них находился в Агдаме, который был заселен исключительно турками-азерами, и мы испытывали большой дефицит муки. Как раз в это время стало известно, что наши ребята в Москве договорились с кем-то о приобретении автономных мельниц, оборудованных на ЗиЛовских прицепах, которые можно было использовать в любых, даже полевых условиях. Как-то встретив меня возле нашего штаба, Роберт Кочарян сказал, что есть договоренность о приобретении комплекта мельницы за 12 000 рублей, и попросил меня с Аветом Григоряном взять деньги в Ереване и лететь в Москву, чтобы приобрести указанную мельницу. Я ответил отказом, сказав, что если есть договоренность, то Авет сам может это сделать. Но он уговорил меня поехать с ним. Мы вылетели в Ереван, где в Комитете «Арцах», председателем которого был наш земляк, Авет получил 12 тысяч рублей. Прибыв в Москву, поселились в гостинице в районе ВДНХ. На следующее утро я спросил у Авета, знает ли он, где эти мельницы, и он ответил, что они находятся в пригороде Москвы, в одном воинском подразделении. Мы на электричке отправились в эту войсковую часть. Приехав, обратились к командиру, и он показал нам оборудование, которое нам очень понравилось – оно соответствовало именно нашим условиям. После этого мы явились в финансовую часть, где, объяснив, кто мы такие, узнали все подробности. Оказалось, что мельница, которую нам хотят продать за 12000 рублей, стоит всего 3 с половиной тысячи. Женщина – начальник финчасти, предложила нам принести письмо из управления тыла, и в этом случае нам отдадут мельницы по 3,5 тысячи за один комплект, иными словами, если получится, мы можем за те же деньги приобрести целых 3 комплекта.
Мы вернулись обратно в Москву уже к вечеру и решили отдохнуть до утра, однако Авет взял телефон и стал обзванивать всех знакомых и рассказывать им мельчайшие подробности – о наших действиях, истинной цене мельницы и другом. Я очень рассердился, потребовал прекратить звонки и предупредил, что завтра у нас могут быть неприятности. И действительно, так оно и произошло. Утром мы с ним поехали к посреднику, у которого имелся офис на ВДНХ, где работал наш соотечественник из Еревана – упитанный, солидного вида мужчина.
Не успели мы войти в его кабинет, как он встал из-за стола и сразу же набросился на Авета с угрозами: «Ты что же это творишь? Я вам помогаю, а ты за моей спиной хочешь дело провернуть? Да нет, не получится!». Авет стоял как вкопанный, и от изумления не мог вымолвить ни единого слова. И тогда я вступил в разговор и тоже угрожающе сказал ему: «Это что же выходит? Вместо того, чтобы помогать, вы хотите на Карабахе нажиться?».
Он сразу остепенился, стал извиняющимся тоном мне объяснять, что сам ни причём, что это делает некий полковник из Управления тыла, без которого ничего не получится. При этом заверил, что от своей доли он готов отказаться, и предложил нам прийти завтра, он же к этому времени постарается договориться с полковником и, насколько это возможно, сбавить цену. На следующий день мы пришли к нему, и он сказал, что последняя цена, на которую продавцы согласились – это 7 000. На этом наша встреча с ним закончилась. Мы поехали в гостиницу «Москва», где в то время находились все наши депутаты: Зорий Балаян, Вачаган Григорян, Борис Дадамян и Серо Ханзадян из Армении. Я объяснил нашим лидерам, как обстоит дело, сообщил, что стоимость мельницы с 12000 снизили до 7000, но настоящая ее цена составляет 3500 рублей. Так что решать им, будем брать или нет. Зорий Балаян ответил, что не будем, хотя ранее они были согласны на 12 000 рублей за один комплект. Нам предложили возвращаться домой. Как раз в это время позвонили из Степанакерта и сообщили, что контроль над Степанакертским аэропортом передан азербайджанскому ОМОНу и там начались бесчинства. Вечером наши депутаты ВС СССР собрались и решили, что всем нужно возвращаться в Степанакерт и сделать все возможное, чтобы очистить аэропорт от азербайджанцев.
Но как оказалось позднее, мы так и не смогли ничего с ними сделать ввиду разногласия лидеров и активистов Движения по вопросу выбора способов, а также отсутствия подготовленных специалистов, но это уже другая тема, потому вернёмся к проблеме мельниц. Итак, уходя от депутатов, я подумал, что нельзя возвращаться с пустыми руками. Обратился к Авету: «Давай найдем Аркадия Вольского, ведь он тоже депутат Верховного Совета от Нагорного Карабаха и с нами в хороших отношениях». Я был уверен, что он нам поможет. Авет, который, благо, знал, кого, где и как найти, предложил пойти к Генриху Андреевичу Погосяну и через него связаться с Вольским. И мы поехали прямо домой к Погосяну. Он встретил нас с радостью, как оказалось, Авета знал хорошо, меня тоже по работе в АПК, у нас с ним были уважительные отношения. И вообще в системе Aгрoпрома все его почти боготворили за ум и способность разбираться во всех сферах сельского хозяйства и промышленности. К слову, во всем АПК не работало ни одного азербайджанца, кроме одной симпатичной девушки в общем отделе, но это к делу не относится. Итак, мы все были рады встрече, организовали маленькое застолье и начали беседу. Генрих Андреевич обещал нам поговорить с А.И. Вольским и вечером следующего дня сообщить нам о результате. Мы продолжили свою беседу на разные темы – от политики до самообороны.
Когда речь зашла о противостоянии, я ему сказал, что мы очень пассивны, даже на территории НКАО азербайджанцы совершают больше нападений на наши села, краж и убийств, чем мы, поэтому на любое их действие мы должны отвечать в несколько крат больше, и вообще, пора очистить некоторые из сел, которые не дают нам покоя ни днём, ни ночью.
После этих моих слов Генрих Андреевич просто взорвался и в сердцах выкрикнул: «Да ты сумасшедший!». При этом поинтересовался у Авета, действительно ли у нас есть такая возможность? Авет ответил утвердительно, тем самым подтвердив мои слова, с чем, однако, Генрих Андреевич не хотел соглашаться. Он придерживался того мнения, что если мы ответим азербайджанцам тем же, то нас могут попросту уничтожить. Именно этого он всегда и опасался и, видимо, поэтому ещё в начале Движения был сторонником создания автономной республики в составе Азербайджана. Из-за чего он и заработал антипатию некоторой части народных масс.
На следующий день мы поехали в центр города погулять, так как до вечера, пока Генрих Андреевич договорится с Вольским, у нас оставалось достаточно свободного времени. Примерно в 11–12 часов, когда мы шли по Китай-городу, который рядом с площадью Ленина, Авет, указав на какую-то невзрачную дверь, что выходила прямо на тротуар, сказал, что тут находится место работы Вольского. Я удивился и едва поверил. Мы решили войти, надеясь на наше хорошее с ним отношение. За дверью оказался контрольно-пропускной пункт, где за окошком сидел какой-то парень в военной форме.
Я спросил, на месте ли Аркадий Иванович, и он спокойно ответил, что да. Тогда я попросил сообщить ему, что здесь находятся двое ребят из Степанакерта – члены Рабочей группы Радик Айриян и Авет Григорян, и добавил: если можно, мы бы хотели с ним встретиться. Он сказал, что можно, и, позвонив по телефону, через несколько минут любезно пригласил нас войти и указал, как пройти к нему. Мы поднялись на второй этаж к Аркадию Ивановичу в кабинет. В приемной сидела милая, добрая пожилая женщина, насколько помню, звали её Марией Ивановной. Мы ей представились, и она сказала: «Пожалуйста, проходите, он вас ждет».
Вошли в кабинет – довольно просторный, светлый, но по нынешним нашим меркам очень скромно обставленный. А ведь Вольский в то время был председателем Союза промышленников и предпринимателей, созданного вместо бывшего Совета экономической взаимопомощи, который охватывал экономику всех стран социалистического лагеря. Аркадий Иванович встретил нас очень радушно и приветливо, начал расспрашивать про Карабах и все другое. Мы с ним беседовали около часа. Объяснили ему цель своего приезда, подробно рассказали ему про мельницы и их цену и попросили его, если возможно, организовать письмо из Управления тыла армии, чтобы мы смогли купить мельницы по их реальной цене. Он вызвал помощника Бориса Андреевича Нефедова, который оказался нашим старым знакомым по его деятельности в составе КОУ в Степанакерте, и попросил подготовить на депутатском бланке от своего имени письмо начальнику управления тыла, что и было сделано.
Когда мы вышли из кабинета, в приёмной вдруг раздался телефонный звонок, и Мария Ивановна – секретарь Аркадия Ивановича, подняв трубку и выслушав собеседника, в конце разговора сказала, что это невозможно, и посоветовала позвонить вечером. Потом обратилась к нам с вопросом, знаем ли мы, с кем она сейчас говорила? Мы спросили, с кем же? «С Генрихом Андреевичем», – был ответ. Мы удивились тому, что Г. А. Погосяна, который был в очень близких отношениях с Вольским, даже не соединили с ним. Генрих Андреевич тогда хотел попросить Аркадия Ивановича, чтобы тот нас принял. Впрочем, обо всём мы узнали уже в кабинете помощника, где он в шутку спросил нас: «Ребята, вы сможете сказать, где сейчас самая горячая точка планеты?».
Мы, конечно, ответили, что это, безусловно, Карабах. Действительно, в то время весь мир только и говорил «о Карабахе и вокруг него». Он засмеялся: «О нет, ваш Карабах ничто по сравнению с Кремлем. На днях должен состояться пленум ЦK КПСС, где собираются судить Горбачева как предателя идей Компартии и советского государства, и Аркадий Иванович готовит материалы для предотвращения этого страшного для Горбачёва удара, поэтому он сейчас сверхзанят».
При всём моём уважении к Вольскому мне, конечно, было неприятно, что он защищает такого предателя, как Горбачёв. Об этом я, разумеется, ничего им не сказал, зная, что это не имело бы для них ровным счетом никакого значения. Мы взяли письмо Вольского и поехали в Управление тыла. Здесь нам вручили распоряжение начальника Управления о том, чтобы мы приобрели указанные мельницы в Грузии в Закавказском военном округе по цене 3 500 рублей за комплект, что было для нас намного выгоднее, чем доставить их из Москвы.
Мы, конечно же, вечером встретились с Генрихом Андреевичем, поговорили. Он передал мне посылочку для семьи в Степанакерте, и мы попрощались. Авет с письмом Управления тыла и деньгами полетел обратно в Ереван, я же из Москвы поехал в Калининградскую область, где у меня была договоренность с директором целлюлозного комбината о покупке у них вагона типографской бумаги для одной из редакций в Ереване.
В то время на всём постсоветском пространстве был бум агитационно–пропагандистской деятельности. Азеры распространяли свои газеты и листовки почти по всем крупным городам Союза, в Ереване же был кризис с бумагой. Вызвав из Еревана в Калининград представителя типографии, которого звали Аркадием, я сам поехал на целлюлозный комбинат и заключил договор о поставке вагона бумаги. Уже в гостинице встретившись с Аркадием, передал ему договор и на следующий день познакомил его с коммерческим директором предприятия, объяснив, что бумага должна быть отправлена в Ереван. Они же и произведут оплату, а мы бумагу для Арцаха возьмём уже в Ереване.
Договорившись обо всем, мы с Аркадием вылетели в Москву, а оттуда – в Ереван. После этого мне с этим Аркадием так и не довелось встретиться, он, насколько мне известно, был просто коммерсантом и ещё в то время уехал куда-то в Россию, а может быть, и дальше.
Итак, покончив с этим делом, я вернулся в Степанакерт. В аэропорту уже орудовал азербайджанский ОМОН, командиром которого был некий Алиф, который в семидесятых годах работал водителем сельскохозяйственного транспортного предприятия, где в качестве инженера эксплуатации работал и я. Так как он был злостным нарушителем, то нам множество раз приходилось его наказывать с последним предупреждением. В конце концов, мы вынуждены были его уволить по статье, и он в то время рассказал, что при поступлении на работу дал взятку заведующему гаражом, что стало известно органам БХСС. Было возбуждено уголовное дело против завгара и механика, которых осудили на немалые сроки, самого же взяткодателя и нарушителя отправили учиться в… милицейскую школу, после окончания которой в органах внутренних дел он также продолжал свое черное дело.
И вот когда я вышел из самолёта, на выходе нас проверял ОМОН. Слава Богу, что самого Алифа в тот момент там не оказалось. Сначала открыли мой дипломат. В нем находилось множество документов и разной литературы, с которыми, однако, они не успели ознакомиться, так как рядом с ними стоял сотрудник нашего областного Управления милиции майор Борис Гараян. Поняв, в чём дело, он сразу же забрал у них мой дипломат, сказав, что это работник нашего Агропрома. Затем они начали проверять сумку, достали из нее пакет с конфетами, которые мне для своей семьи передал Генрих Андреевич, и от злости, что не удалось меня задержать, штык-ножом распороли его. В таком изрезанном виде я и передал пакет супруге Генриха Андреевича, объяснив, что случилось в аэропорту.
Итак, вернувшись домой, увидел, что турки-азеры бесчинствуют ещё больше, с воздуха бомбят наши населенные пункты самолётами, из Шуши, Агдама, Ходжалу и Кёсалара обстреливают Степанакерт из артиллерийских орудий. Нам нечем было защищаться, одна была надежда на противоградные установки, но даже их у нас забрала «доблестная» Советская Армия, в то время всецело подчинявшаяся находившемуся здесь руководителю проазербайджанского Оргкомитета В. Поляничко, который выполнял задание ренегата Горбачева. Можно себе представить состояние 150-тысячного Нагорного Карабаха, полностью разрушенного, который оказался против 7-миллионного Азербайджана, вооруженного до зубов, к тому же последнему помогала ещё и Советская Армия.
Из этого вытекает лишь одно: как и в 1918 году, когда Ленин помогал Турции, чтобы Армении не стало, так и Горбачёв пытался очистить Нагорный Карабах от нас, армян, и отдать его все тем же туркам–азерам. Но, слава Богу, благодаря огромному патриотизму нашего народа им не удалось нас уничтожить. И не удастся никому, если мы будем вместе, едины, и не потеряем честь и веру.
Итак, подходил к концу год 1990-й, турки бесчинствовали, советские войска продолжали всемерно содействовать им. Нашим лидерам, как здесь, так и в Ереване, надо было думать, как организовать сопротивление.
В начале 1991 года, а может, и раньше, был организован военный штаб для мобилизации сил самообороны и последующего формирования Армии обороны НКР. Руководили штабом Аркадий Карапетян – в качестве командующего силами самообороны, и Аркадий Тер-Тадевосян (Командос) – начальник штаба будущей армии. С Аркадием Tер-Тадевосяном я лично не был знаком, но знал о нем от моего двоюродного брата Аркадия Айрияна (Наполеон), который во второй раз был арестован в начале 1991 года при освобождении села Умудлу, расположенного по соседству с его родным селом Верхний Оратаг. Он был захвачен советскими солдатами, передан туркам, которые его и замучили в бакинских тюрьмах. Аркадий был одним из тех ребят, которые погибли мученической смертью, сохранив свою честь и достоинство и не предав никого из своих товарищей, был соратником Ашота Гуляна (Осколка), они вместе до его ареста участвовали почти во всех боевых операциях. И если бы Аркадий остался в живых, непременно стал бы одним из первых наших национальных героев, что он, несомненно, уже заслужил за свою короткую жизнь. Но это дело истории, и мы вернёмся к нашему повествованию.
Аркадия Карапетяна я знал намного раньше по некоторым совместным действиям, он был одним из лидеров Движения и одним из первых представителей партии «Дашнакцутюн», из-за чего за ним и сохранилось прозвище «дашнак Аго». Кстати, ещё раньше он меня уговаривал вступить в эту партию, но я всегда был против создания разных партий, ибо считал, что у нас одна цель – национально–освободительная борьба, и весь народ должен объединиться вокруг этой цели, а не распылять свои силы по разным партиям. А впоследствии ещё и по религиозным сектам, которые специально были внедрены враждебными нам западными силами и организациями и финансировались ими с целью изнутри подорвать наше единство и другие национальные ценности, что им, конечно, в определенной степени и удалось. Об этом в свое время следовало бы задуматься постсоветским руководителям Армении, особенно Левону Тер-Петросяну с его командой, которые как раз делали все наоборот. Они отстранили от руководства Игоря Мурадяна и остальных патриотов, набрав вместо них алчных, послушных, способных на предательство людей, а также отдав предпочтение тем, кто имел сомнительное происхождение…
Итак несмотря на то, что я в то время не был членом партии «Дашнакцутюн», мне все-таки поручили ответственную миссию – организовать тайную мобилизацию в ряды сил самообороны. Так как однажды мне уже приходилось заниматься этим еще в начале 90–х, с помощью заведующего терапевтическим отделением областной больницы Эдуардом Бабаяном проводя медкомиссию, то я сразу же приступил к работе. Штаб находился в Степанакерте в так называемом «розовом доме», т.е. в бывшем здании горисполкома. Начал я с того, что в первую очередь вызвал командиров групп, которые ранее имелись на предприятиях, а затем и по месту жительства, и официально записывал их в ряды сил самообороны, объяснил им, что необходимо в любую минуту быть готовыми приступить к военным действиям. Дальше дело пошло лучше. Когда всем стало известно об этом, то народ стал валом валить в штаб, чтобы вступить в наши ряды.
В то время мы организовали учебный центр, инициатором которого был Аркадий Иванович Тер-Тадевосян. Он вызвал меня и познакомил с одним парнем лет 20-и, которого звали Гамлет Погосян. Тот служил до этого в десантных войсках в Калининграде, но не дослужив до конца 6 месяцев, сумел уговорить командование досрочно демобилизовать его из Советской Армии, приехал домой в Степанакерт и, явившись в штаб, предложил свои услуги для обучения наших ребят и передачи им своих знаний.
Аркадий Иванович вместе с нами поехал в ПТУ, которое находилось на месте нынешнего суда рядом с городской милицией, и, ознакомившись с помещениями, сказал, что нам предоставляется данное здание для организации здесь учебного центра. Затем к нам пришел и Михаил Габриелович, военрук Степанакертской школы №3. После этого, я набирал группы по 100 человек и направлял в учебный центр.
В то время желающих было столь много, что я набирал в армию исключительно ребят в возрасте до 30 лет, уже отслуживших в армии. В учебном центре они проходили 15-дневное обучение, после чего направлялись в армию. Стоит отметить, что ко мне обращались и дети от 15 лет, которые очень просили зачислить их в личный состав, а также мужчины старше 60 лет. Последние настойчиво требовали взять их, аргументируя тем, что они умеют стрелять, уже прожили достаточно, и лучше уж воевать и погибать им, чем их детям. Но им, конечно, мы отказывали.
Были случаи, когда 14-летние мальчики по пять-шесть раз по спискам разных групп города Степанакерта пытались войти в состав сил самообороны, но я этого не допускал. Позднее мне стало известно, что некоторые из них самостоятельно, по знакомству вступили в разные подразделения сил самообороны, к примеру, в роту «фаготчиков» и в Первую роту Ашота Гуляна (Осколки) и т.д.
Летом 1991 года постепенно начался вывод с территории Нагорного Карабаха подразделений Советской Армии и внутренних войск со всей техникой и вооружением. Конечно, в этом процессе и нам досталось определенное количество оружия и техники, которая в большинстве случаев была с неисправностями. По сравнению с тем, что было передано Азербайджану, это был мизер. Но даже такое количество поднимало боевой дух наших ребят, многие из которых настаивали на том, чтобы их приняли в состав сил самообороны, аргументируя тем, что в ходе боев будут раненые и погибшие, и они готовы их заменить. С ними я был полностью согласен и со своей стороны уверял Командоса в необходимости продолжать подготовку резерва, при том, что у нас не хватало оружия. Данное обстоятельство его, конечно, очень волновало, так как многие требовали оружие, но возможности обеспечить их просто не было, хотя впоследствии уже появилось много трофейного оружия и боеприпасов, которых у противника было предостаточно, чего хватало как им, так и нам.
Летом 1991 года, несмотря на то, что власти Москвы и так были заведомо настроены против нас, в Армении, тем не менее, задумали первыми в Закавказье провести выборы в национальный парламент и объявить о независимости от СССР. Мы также проводили тайные выборы депутатов Верховного Совета Армении от Нагорного Карабаха, в которых я участвовал как председатель окружной избирательной комиссии, которая была сформирована в АПК, где я тогда работал. И несмотря на преследования, нам удалось провести эти выборы, у нас появились депутаты в армянском парламенте, что, конечно, облегчало связи с Арменией и как будто приближало наше воссоединение с матерью–Арменией.
Но, с другой стороны, этот шаг и вообще провозглашение Арменией раньше всех своей независимости послужило поводом для того, чтобы власти Москвы полностью отвернулись от нас и начали в открытую помогать Азербайджану, и не только помогать, а в прямом смысле отвоевывать наши территории и передавать азерам. Но об этом будет сказано чуть позже.
К концу 1991 года были образованы и размещены по своим казармам 4 роты, в резерве же находилось уже около 400–500 обученных и ожидающих формирования человек. Ещё больше ребят ждали прохождения учебки, где в основном обучение вели Михаил Габриелович, Гамлет Погосян и ещё один молодой офицер, тоже добровольно приехавший защищать родину, с которым я познакомился случайно. Он стоял рядом со штабом, который в то время располагался, как я уже отмечал, в здании горсовета, с одним из наших ребят из Рабочей группы, насколько я помню, с Ваграмом Айрапетяном. Ваграм мне сообщил, что парень – офицер, приехал защищать родину, оставив свою службу в Советской Армии, обратился к кому-то из штаба, но ему предложили подождать. Я с ним познакомился – его звали Грайр, спросил, кто он по специальности. Оказалось, сапер, притом высокопрофессиональный. Это было для меня находкой, ведь до этого я уже несколько месяцев тщетно искал такого специалиста по всем спискам военного комиссариата, однако сколько человек я бы ни находил, которые служили в саперных частях, они оказывались либо каптерщиками, либо иными хозяйственниками. Вот почему, встретив его, я безмерно обрадовался и сразу же переговорив с Командосом, направил его в учебный центр, чтобы он ускоренными темпами обучил как можно больше сапёров. Впоследствии его перевели в разведку, и он с честью прошёл всю войну, был ранен и ныне ещё служит в центральном штабе Армии обороны Республики Арцах. Словом, весь процесс обучения проводился ими троими – Михаилом, Гамлетом и Грайром, и хотя Грайр пробыл в учебном центре недолго,он все-таки успел подготовить кое-кого.
Продолжение следует
Радик Айриян (1947 г.)
Айриян Радик Тавадович родился 1 октября 1947 г. в селе Кочогот Мартакертского района НКАО. В 1966 г. закончил Степанакертскую школу рабочей молодежи № 4.
В 1980 году Закончил Воронежский инженерно-строительный институт, получив квалификацию инженера-механика. Участник Карабахского движения. Был депутатом Парламента НКР первого созыва и членом первого совета старейшин города Степанакерта








